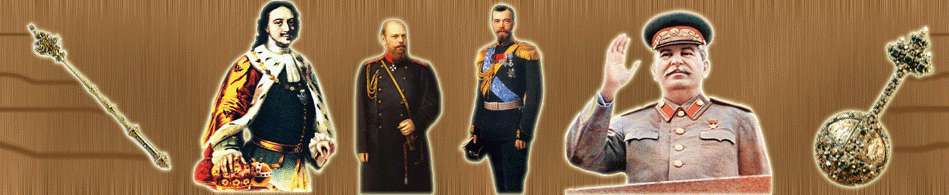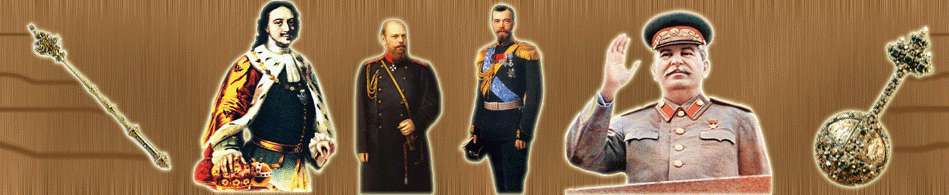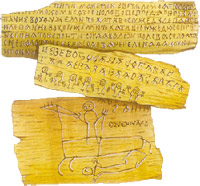 Бытовая письменность Древней Руси
Часть первая
Из источников по бытовой письменности XI-XV
веков наибольший интерес представляют берестяные грамоты и памятники
эпиграфики (эпиграфика — историческая дисциплина, изучающая надписи
на твердом материале). Культурно-историческое значение этих источников
чрезвычайно велико. Памятники бытовой письменности позволили покончить
с мифом о чуть ли не поголовной безграмотности
в Древней Руси.
Впервые берестяные грамоты были обнаружены 1951 году
во время археологических раскопок в Новгороде. Затем они были
найдены (хотя и в несравненно меньшем количестве, чем
в Новгороде) в Старой Руссе, Пскове, Смоленске, Твери, Торжке,
Москве, Витебске, Мстиславле, Звенигороде Галицком (под Львовом).
В настоящее время собрание текстов на бересте насчитывает свыше
тысячи документов, и их число постоянно растет с каждой новой
археологической экспедицией.
В отличие от дорогого пергамена береста была самым
демократичным и легкодоступным материалом письма в средневековье.
Писали на ней острым металлическим или костяным стержнем, или, как его называли
в Древней Руси, писалом. На мягкой березовой коре буквы
выдавливались или процарапывались. Лишь в редких случаях на бересте
писали пером и чернилами. Старшие берестяные грамоты из числа
обнаруженных ныне относятся к первой половине — середине XI века.
Однако в Новгороде было найдено два костяных писала, которые датируются
по археологическим данным временем до крещения Руси: одно —
953-957 годами, а другое — 972-989 годами.
Как отмечает В. Л. Янин в книге
«Я послал тебе бересту…» (3-е изд. М., 1998. С. 30, 51), «берестяные
грамоты были привычным элементом новгородского средневекового быта.
Новгородцы постоянно читали и писали письма, рвали
их и выбрасывали, как мы сейчас рвем и выбрасываем
ненужные или использованные бумаги», «переписка служила новгородцам, занятым
не в какой-то узкой, специфической сфере человеческой деятельности.
Она не была профессиональным признаком. Она стала повседневным
явлением».
Социальный состав авторов и адресатов берестяных
грамот очень широк. Среди них не только представители титулованной
знати, духовенства и монашества, но также купцы, старосты,
ключники, воины, ремесленники, крестьяне и другие лица. В переписке
на бересте принимали участие женщины. В ряде случаев они выступают
как адресаты или авторы грамот. Сохранилось пять писем, отправленных
от женщины к женщине.
В подавляющем большинстве берестяные грамоты написаны
по-древнерусски, и лишь небольшое число — по-церковнославянски.
Кроме того, обнаружены две берестяные грамоты, написанные жившими
в Новгороде иностранцами на латинском и нижненемецком языках.
Известны также греческая и прибалтийско-финская грамоты. Последняя
представляет собой заклинание, языческую молитву середины XIII века. Она
на триста лет старше всех известных ныне текстов, написанных по-фински
или по-карельски.
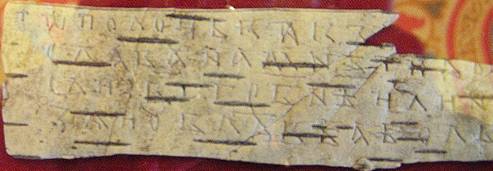
Перевод: «От
Полчка (или Полочка)…(ты) взял (возможно, в жёны) девку у Домаслава, а с меня
Домаслав взял 12 гривен. Пришли же 12 гривен. А если не пришлёшь, то я встану
(подразумевается: с тобою на суд) перед князем и епископом; тогда к большому
убытку готовься…».
Берестяные грамоты, по преимуществу, частные письма.
Повседневный быт и заботы средневекового человека предстают в них
в мельчайших подробностях. Авторы посланий на бересте рассказывают
о своих сиюминутных делах и заботах: семейных, бытовых,
хозяйственных, торговых, денежных, судебных, нередко также о поездках, военных
походах, экспедициях за данью и т. п. Вся эта бытовая сторона
средневекового уклада, все эти мелочи обыденной жизни, столь очевидные для
современников и постоянно ускользающие от исследователей, слабо
отражены в традиционных жанрах литературы XI-XV веков.
Тексты на бересте разнообразны в жанровом
отношении. Помимо частных писем, встречаются разного рода счета, расписки,
записи долговых обязательств, владельческие ярлыки, завещания, купчие,
челобитные от крестьян к феодалу и другие документы. Большой
интерес представляют тексты учебного характера: ученические упражнения,
азбуки, перечни цифр, списки слогов, по которым учились читать.
В грамоте № 403 50-80-х годов XIV века находится маленький
словарик, в котором для русских слов указаны их прибалтийско-финские
переводы. Значительно реже встречаются берестяные грамоты церковного
и литературного содержания: отрывки литургических текстов, молитвы
и поучения, например, две цитаты из «Слова о премудрости»
знаменитого писателя и проповедника Кирилла Туровского, умершего
до 1182 года, в берестяном списке первого 20-летия XIII века
из Торжка. Сохранились также заговоры, загадка, школьная шутка.
Из всех восточнославянских письменных источников XI-XV
веков берестяные грамоты наиболее полно и разнообразно отразили
особенности живой разговорной речи. Исследование текстов на бересте
позволило А. А. Зализняку в монографии «Древненовгородский
диалект» (М., 1995) восстановить его многие особенности. Рассмотрим наиболее
важные из них. 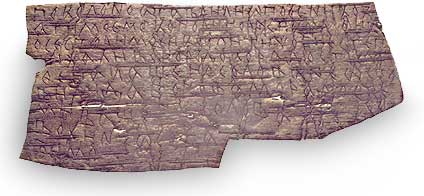 В
древненовгородском диалекте отсутствовал общеславянский результат второй
палатализации: переход заднеязычных [к], [г], [х] в мягкие свистящие
согласные [ц?], [з?], [с?] в положении перед гласными переднего ряда [e]
(  ) или
[и] дифтонгического происхождения. Все славянские языки пережили вторую
палатализацию, и только древненовгородский диалект ее не знал.
Так, в грамоте № 247 (XI век, вероятно, вторая четверть)
опровергается ложное обвинение в краже со взломом: «А замъке к  ле,
а двьри к  л  …», то есть ‘А замок цел, и двери целы…?. Корень к  л- ‘целый?
представлен в обоих случаях без эффекта второй палатализации.
В берестяной грамоте XIV в. № 130 встречается слово х  рь
в значении ‘серое (некрашеное) сукно, сермяга? (корень х  р-‘серый?). В Им. пад. ед. ч. муж. р. твердого о-склонения
окончанием было -е. Это окончание встречается у существительных брате
‘брат?, прилагательных меретве ‘мертв?, местоимений саме ‘сам?, причастий
погублене ‘погублен?, в именной части перфекта — забыле ‘забыл?.
«Дешеве ти хлебе», то есть ‘дёшев (здесь) хлеб?, — писал
в первой четверти XII века новгородец Гюргий (Георгий), советуя отцу
и матери продать хозяйство и переселиться в Смоленск или Киев,
так как в Новгороде, очевидно, был голод. Флексия -е отличает
древненовгородский диалект от всех славянских языков и говоров.
Во всем остальном славянском мире ей соответствует в древнюю
эпоху окончание -ъ (например, братъ, самъ), а после падения
редуцированных ъ и ь — нулевая флексия (брат, сам). Напомним,
что буквами ъ «ер» и ь «ерь» в древности обозначались
особые сверхкраткие звуки, несколько похожие в своем произношении
соответственно на [ы] и [и], которые окончательно исчезли
из русского языка в начале XIII века. В Род. пад ед. ч. у существительных а-склонения
в древненовгородском диалекте с самого начала письменности
господствовало окончание -  (у жен  ), в то время как
в стандартном древнерусском языке здесь было окончание -ы (у жены).
Для настоящего времени глагола было характерно явное преобладание
в 3 л. ед. ч. и 3 л. мн. ч. форм без -ть: живе, молоти,
бью, приходя и т. д. В стандартном древнерусском языке было
соответственно: живеть, молотить, бьють, приходять. Бытовые грамоты чрезвычайно близки диалектной речи. Однако
их нельзя рассматривать как точную передачу разговорного языка.
В бытовой письменности существовал свой сложившийся обычай языкового
употребления, который усваивали во время обучения грамоте.
Н. А. Мещерский установил, что в частной переписке
на бересте были особые адресные и этикетные эпистолярные формулы.
Часть таких формул имеет книжное происхождение, хотя в подавляющем
большинстве берестяные грамоты не являются литературными произведениями
и памятниками книжного языка. Так, в начале грамоты часто
используется традиционная формула покланяние или поклон от такого-то
к такому-ту, а в конце послания встречаются устойчивые обороты
добр 
сътворя ‘будь добр, пожалуйста? или ц  лую тя в значении
‘приветствую тебя?. Берестяные грамоты дают богатый материал для изучения
некнижных, бытовых графических систем. В Древней Руси элементарный курс
грамотности ограничивался одним обучением читать. Но закончив его,
ученики, хотя и непрофессионально, могли писать, перенося навыки чтения
на письмо. Искусству писать и правилам правописания учили
специально, главным образом будущих книгописцев. В отличие
от книжных текстов, созданных писцами-профессионалами, берестяные
грамоты созданы людьми, в своем большинстве специально
не учившимися писать. Не проходя через фильтр книжных
орфографических правил, берестяные грамоты отразили многие местные
особенности живой речи XI-XV веков.
В памятниках книжного письма, напротив, тщательно
устранялись черты диалектной речи. В книжный текст проникали лишь
те местные языковые особенности, от которых было трудно
избавиться — например, цоканье. Берестяные грамоты показывают, сколь
большое значение имел фильтр книжного правописания, насколько радикально
средневековые книгописцы отказывались от областных особенностей живой
речи в своей профессиональной деятельности.
Часть вторая
Как установил Зализняк, основные отличия бытовых
графических систем от книжного письма сводятся к следующим
моментам:
1) замена буквы ь на е (или наоборот): коне
вместо конь, сьло вместо село;
2) замена буквы ъ на о (или наоборот): поклоно вместо поклонъ,
четъ вместо чьто;
3) замена буквы  на е или ь (или наоборот). Последовательная замена
е и ь на h (весьма редкий графический прием) представлена
в надписи 20-50-х годов XII века, процарапанной на деревянной
дощечке (цере): «А язъ тиун  дан  ж  уял  » ‘А я, тиун, дань-то взял?
(тиун ‘дворецкий, домовый управитель при князьях, боярах и епископах;
должностное лицо по управлению города или местности?).
4) скандирование, или скандирующий принцип записи, состоит в том, что
на письме за любой согласной буквой должна следовать гласная буква.
Если на фонетическом уровне гласной нет, то пишутся «немые»
ъ или ь, о или е — в зависимости от твердости или
мягкости предшествующей согласной, например: доругая соторона вместо другая
сторона. В качестве «немых» гласных после согласных могли использоваться
также ы или и: овиса вместо овьса, своимы вместо своимъ. 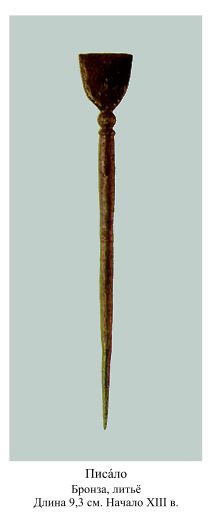 Как видим, текст, написанный
с использованием бытовых графических правил, существенным образом
отличается от книжного письма. Так, в грамоте 40-50-х годов XII
века встречается написание ко монь, которому в книжной орфографии
соответствует форма къ мън  . Тем не менее бытовые графические
системы иногда проникали в книжное письмо. Их употребление известно
в ряде древненовгородских и древнепсковских рукописей.
Языку берестяных грамот близки надписи-граффити,
прочерченные острым предметом (часто тем же писалом) по твердой
поверхности. Особенно многочисленны и интересны в лингвистическом
отношении тексты на штукатурке древних зданий, главным образом церквей.
В настоящее время граффити обнаружены на стенах архитектурных
памятников многих древнерусских городов: Киева, Новгорода, Пскова, Старой
Ладоги, Владимира, Смоленска, Полоцка, Старой Рязани, Галича Южного
и др. Большое количество надписей, сделанных не только
представителями княжеско-боярских и церковных кругов,
но и дружинниками, ремесленниками, простыми богомольцами,
свидетельствует о широком распространение грамотности на Руси уже
в XI-XII веках. Древнерусским граффити посвящены важные исследования
историков и лингвистов (см., например: Высоцкий С. А.
Киевские граффити XI-XVII
веков. Киев, 1985; Медынцева А. А. Грамотность в Древней Руси:
По памятникам эпиграфики X — первой половины XIII века. М., 2000;
Рождественская Т. В. Древнерусские надписи на стенах храмов: Новые
источники XI-XV веков. СПб., 1992).
Рождественская выделяет следующие типы надписей:
надписи-«моления» с формулой «Господи, помози (помяни, спаси
и т. д.)», поминальные надписи с сообщением о смерти
(такова запись в Софии Киевской о смерти великого князя Ярослава
Мудрого в 1054 году), надписи-автографы (например, XII и XIII
века в Георгиевском соборе Юрьева монастыря в Новгороде:
«а се Созоне ?лъ лютыи…» — ‘А вот Созон лютый писал?, «Иване
?лъ л  вою
рукою»), богослужебные надписи (библейские и литургические цитаты,
покаянные стихи и др.), «летописные», или «событийные», надписи, надписи
делового содержания, надписи «литературного» характера (так, процитированные
на стене Софии Киевской во второй половине — конце
XI века изречения из переводного памятника «Разумы сложения Варнавы
Неподобного», известного по рукописям только с рубежа XIV-XV веков,
датируют появление этого произведения на Руси временем не позднее
второй половины XI столетия), фольклорные надписи (пословицы, поговорки,
загадки и т. п.), «бытовые» надписи (например, XIV-XV веков
в церкви Федора Стратилата в Новгороде: «о попове свщници
укланяитеся от пьяньства…» — ‘о попы-священники, уклоняйтесь
от пьянства!?, «И(о)сав(е) со мною шле ис торгу збиле мене
я (з)апслъ» — ‘Иосаф шел со мною с торговой площади, сбил
меня (с ног), я и записал?). 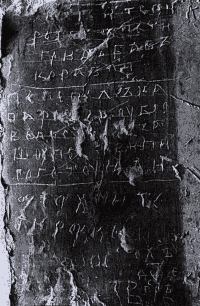 Некоторые
надписи тщательно зачеркнуты. Одну из них, конца XII — начала XIII
века, из Софийского собора в Новгороде удалось разобрать.
По мнению Медынцевой, это детская песенка-считалка, однако
Рождественская связывает надпись с языческим погребальным обрядом: «(ако
с  )дите
пиро(ге въ) печи гридьба въ корабли… пелепелъка пар(и в)ъ
дуброве пост(ави) кашу по(ст)ави пироге ту [туда. — В. К.] иди».
Как отмечает Рождественская, в основе этого ритмизованного текста лежит
смысловой параллелизм, находящий поддержку в синтаксических конструкциях
и грамматических формах: пирог (ед. ч.) — в печи, гридьба
‘дружина? (ед. ч.) — в корабле, перепелка (ед. ч.) —
в дуброве. Какой-то современник надписи тщательно зачеркнул
ее и обругал автора, приписав ниже: «усохните ти руки».
Иногда на стенах храмов появлялись граффити,
представляющие собой юридические документы. На стене киевской Софии,
главного храма Киевской Руси, была сделана надпись о покупке вдовой
князя Всеволода Ольговича земли, ранее принадлежавшей Бояну, за огромную
сумму — 700 гривен соболей. Надпись составлена согласно формуляру
купчих грамот с упоминанием свидетелей-«послухов»: «…а передъ тими
послухы купи землю княгыни бояню вьсю…». Обнаруживший надпись Высоцкий
датировал ее второй половиной XII века и предположил, что проданная
земля некогда имела какое-то отношение к прославленному поэту-певцу
«вещему» Бояну, жившему в XI столетии и воспетому
в «Слове о полку Игореве». По менее вероятному предположению
Б. А. Рыбакова, надпись относится к концу XI века
и могла быть сделана вскоре после смерти Бояна. Впрочем, Рыбаков
подчеркивал, что «текст граффито сам по себе не дает нам права
отождествлять Бояна-песнотворца с Бояном-землевладельцем». 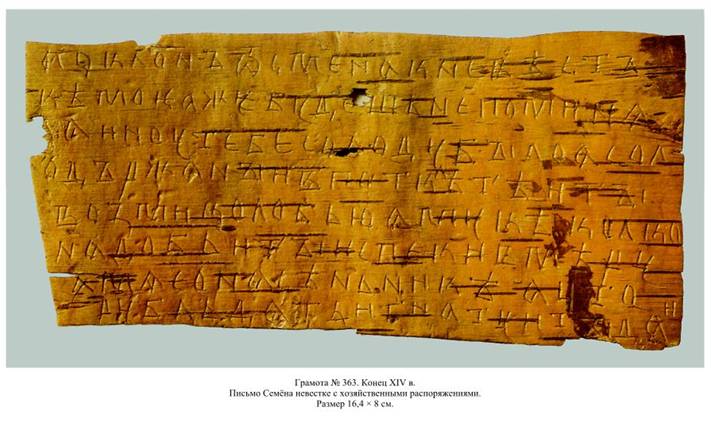 Глаголическое письмо, изобретенное первоучителем славян
святым Кириллом, не получила широкого распространения в Древней
Руси и ее использовали лишь искусные книжники. До нашего
времени не дошло ни одной восточнославянской глаголической книги.
Лишь в восьми сохранившихся кириллических рукописях XI-XIII веков
встречаются отдельные глаголические слова и буквы. Между тем известны
глаголические и смешенные глаголически-кириллические надписи XI-XII
веков на стенах Софийских соборов в Новгороде и Киеве. Одну
из них процарапал «лютый Созон» в первой половине XII века,
закончив приведенный выше кириллический текст глаголическими буквами.
По мнению Рождественской, так как большинство находок
древнерусских надписей с глаголическими буквами и кириллических
рукописей с глаголическими «вкраплениями» относится к Новгороду
и Северной Руси (в Новгороде, например, сохранилось
10 граффити XI века, а в Киеве 3), это заставляет
предположить о существовании более тесных и самостоятельных связей
Новгорода по сравнению с Киевом с глаголической традицией
и глаголическими центрами в Западной Болгарии, Македонии
и Моравии.
По наблюдениям Рождественской, важным отличием памятников
эпиграфики от книжных текстов является более свободное отношение
к книжной норме. Причем степень реализации книжной нормы во многом
зависит от типа надписи. Если в богослужебных надписях
церковнославянский язык более русифицирован по сравнению
с аналогичными книжными текстами, то в надписях светского
содержания отразился язык повествовательных и деловых жанров
древнерусской письменности. Живая разговорная речь слышна в небольшой
рифмованной насмешке XI-XII веков, возможно, над задремавшим певчим или
богомольцем в Софии Новгородской: «Якиме стоя усъне а ръта
и о камень не ростепе» ‘Яким, стоя, уснет, а рта
и о камень не расшибет (то есть не раскроет)?.
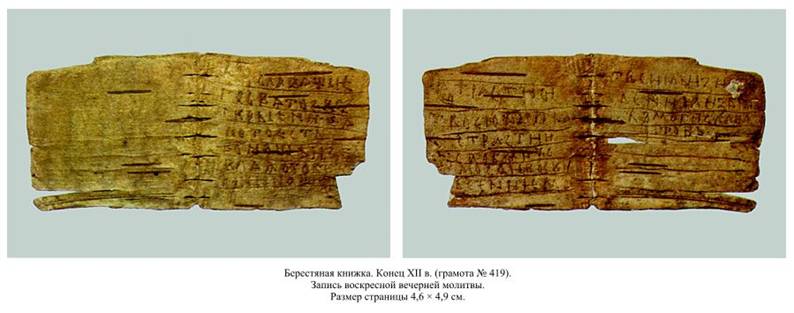
В надписях-граффити всех типов отсутствует жёсткое
противопоставление церковнославянского и древнерусского языков. Вместе
с тем новгородские надписи более последовательно, чем берестяные
грамоты, отражают книжную орфографическую норму. Что касается диалектных
особенностей, то и в этом отношении граффити, как
и эпиграфика в целом, более сдержанны, чем берестяные грамоты, что
объясняется меньшим объёмом текста и устойчивостью письменных формул.
Таким образом, книжная языковая норма в эпиграфике более вариативна, чем
в книжных текстах, и менее вариативна, чем в берестяных
грамотах. |