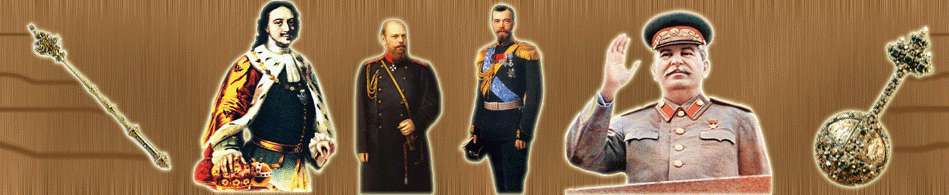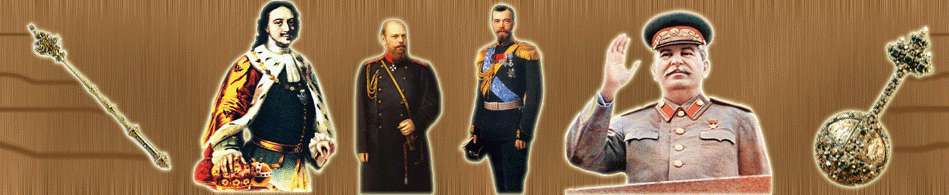Композиционная вторичность "Задонщины"
"Задонщина" содержит соответствия "Слову" не
только в стиле, в отдельных формулах, выражениях и образах, но и
в последовательности изложения событий.
Оба произведения после вступления, в котором упоминается Боян,
переходят к описанию сборов войска и похода. Характеристика Игоря
Святославича и Всеволода Буй Тура соответствует характеристике Дмитрия
Ивановича и Владимира Андреевича. В "Слове" сражений два:
первое победоносное, второе, оканчивающееся поражением. В "Задонщине"
сражение одно, но в нем два момента: первый неудачен для русских,
второй несет победу.
Сон Святослава и его "золотое слово" соответствуют в
"Задонщине" увещевательному слову Дмитрия Ивановича и
описанию предзнаменований. Плач Ярославны соответствует в "Задонщине"
нескольким плачам боярынь по убитым.
Бегство Игоря из плена до известной степени соответствует бегству
Мамая, диалог Гзака и Кончака, их досада — досаде татар в "Задонщине"
и словам фрягов о Мамае.
Если мы разберем композицию обоих произведений, то заметим, что
композиция "Задонщины" значительно менее сложна, чем композиция
"Слова". Она не перебита историческими воспоминаниями
и лирическими размышлениями. Однако з н а ч е н и е общих элементов
в композиции обоих произведений различно. В "Слове" каждый
элемент композиции тверже и определеннее выполняет свою функцию.
Рассмотрим прежде всего вступление. Вступление в "Слове"
— это обычное для приподнятых ораторских, житийных и повествовательных
произведений размышление о выборе стилистической манеры, в которой
должно вестись все последующее повествование, определение своего
отношения к литературной манере предшественника. Такие вступления
мы встретим в проповедях Кирилла Туровского, 15
в Хронике Константина Манассии (дважды) 16
и других произведениях.
В связи с этим размышлением в "Слове" следует рассматривать
и весь пассаж о Бояне. Автор "Слова" рассуждает: следовать
ли ему или не следовать за стилистической манерой старого певца
Бояна. Здесь все ясно и художественно целесообразно. В "Задонщине"
же появление Бояна не мотивировано. В Кирилло-Белозерском списке,
где текст о Бояне сохранился в наибольшей полноте, говорится только
следующее: "Поидемъ, брате, в полуночную страну жребии Афетову
сына Ноева, от него же родися Русь преславная. Оттоле взыдемь на
горы киевьскыя. Первѣе
всѣхъ вшедъ восхвалимь
вѣщаго гo Бояна в городѣ
в Киевѣ, гораздо гудца.
Тои бо вѣщии Боянъ, воскладая
свои златыя персты на живыя струны, пояше славу русскыимь княземь,
первому князю Рюрику, Игорю Рюриковичю и Святославу Ярославичю,
Ярославу Володимеровичю, восхваляя ихъ пѣсми
и гуслеными буиными словесы на русскаго господина князя Дмитриа
Ивановича и брата его князя Володимера Ондрѣевича,
занеже ихъ было мужество и желание за землю руссьскую и за вѣру
христианьскую".
В списке И-1 самое имя Бояна искажено, но сохранена та же
мысль: автор приглашает взойти с ним на горы Киевские, помянуть
первые времена и похвалить киевского "гораздаго гудца"
"вѣща боинаго"
(может быть — "боярина"), который воскладал свои
персты на вещие струны и пел славу князьям древним. Похвалы Дмитрию
Ивановичу и Владимиру Андреевичу этот "гораздый гудец"
в списке И-1 не поет. В списке У мотив выбора стиля
дальнейшего повествования как будто бы имеется, хотя и очень неясен
(об этом скажу в дальнейшем), но этот мотив выбора стиля полностью
отделен от похвалы Бояну, значение которой все же остается непонятным.
После предложения составить похвалу Дмитрию Ивановичу и Владимиру
Андреевичу идет следующее место: "И рцем таково слово: лудчи
бо нам, брате, начяти повѣдати
иными словесы от похвальных сихъ и о нынешных повѣстех
похвалу великому князю Дмитрею Ивановичю и брату его князю Владимеру
Андрѣевичю, а внуки святаго
великаго князя Владимира Киевскаго. Начаша ти повѣдати
по дѣлом и по былинам.
Не проразимся мыслию, но землями, помянем первых лѣт
времена, похвалим вещаннаго боярина, горазна гудца в Киеве. Тот
боярин воскладоша горазная своя персты на живыя струны, пояша руским
князем славу, первому князю киевскому Игорю Бяриковичю и великому
князю Владимеру Всеславьевичю киевскому и великому князю Ярославу
Володимеровичю". После этого автор обращается к другому своему
предшественнику — Софонию-рязанцу: "Аз же помяну резанца
Софония и восхвалю пѣснеми
гусленными словесы сего великого князя Дмитрея Ивановича и брата
его князя Владимира Андрѣевича...".
Совершенно неясным оказывается и все место, где говорится: "лудчи
бо нам, брате, начяти повѣдати
иными словесы". "Лудче" чего? И почему слова должны
быть "иные" — "иные" по сравнению с какими?
То, что ясно в "Слове", в "Задонщине" загадочно
и непонятно. Объясняет все только вступительная часть "Слова".
В Синодальном списке похвалы Бояну нет вовсе. Список И-2,
как известно, без начала. Итак, назначение образа Бояна в "Задонщине"
очень неясно, нет и характеристики стиля Бояна, столь выпуклой в
"Слове". Перед нами в "Задонщине" не совсем
ясные реминисценции "Слова", и только.
В "Слове" имеется, как известно, один плач Ярославны
и кратко говорится о плаче русских жен. Композиционная роль этих
плачей совершенно четкая. В первом случае большой плач Ярославны
предшествует бегству Игоря. Природа как бы откликается на плач Ярославны
и помогает Игорю бежать. Сам бог указывает ему путь
в Русскую землю смерчами, идущими от моря. Плач же русских жен вставлен
в общую картину страданий Русской земли в целом. Ни тот, ни другой
плач не повторяют друг друга. Иное в "Задонщине": там
плачет Микулина жена Марья, затем непосредственно после нее —
Иванова или Тимофеева жена Федосья, за нею — Андреева жена
Марья и Михайлова жена "Оксенья", после — жены коломенские.
Плачи всех этих жен коротки, в целом они повторяют друг друга и
сохраняют из плача Ярославны "Слова" только обращения
к реке (к Дону и к Москве). Строго связанные в "Слове"
с обращением к Днепру обращения Ярославны к солнцу и к ветру в "Задонщине"
не отразились. Впечатление от плачей ослаблено "многоголосостью",
краткостью их упоминаний и прозаичностью повторений одного и того
же. В "Задонщине" плачи как бы соединены с перечислением
вдов убитых. Это как бы дополнение к списку павших. Делопроизводственная
манера автора "Задонщины" сказывается и здесь.
Все обращения Игоря Святославича к воинам, к князьям, обращения
Всеволода Буй Тура и Святослава в "золотом слове" имеют
внутреннюю мотивировку. Они вызваны конкретными обстоятельствами.
Игорь обращается к своей дружине и к князьям во время солнечного
затмения, чтобы поднять их упавший дух. Всеволод
Буй Тур обращается к Игорю, который его дожидался, чтобы сообщить
ему о своей готовности и о готовности своих воинов. Святослав рассказывает
свой сон боярам, чтобы те его разгадали. "Золотое слово"
Святослава и обращение к русским князьям имеют целью побудить князей
выйти на защиту Русской земли. Обращение к каждому князю в этом
"золотом слове" вполне конкретно; в них указывается, почему
должен встать князь за родину, напоминается о его силе, храбрости,
чести и долге.
Иной характер носят речи князей Дмитрия Ивановича и Владимира Андреевича.
Князья русские, уже съехавшись к Дмитрию Ивановичу "на пособь",
заверяют его, что выедут с ним против татар (списки К-Б,
И-1, У). Затем Дмитрий Иванович обращается к уже собравшимся
русским князьям с призывом защищать Русскую землю (списки К-Б,
И-1). Затем обращаются друг к другу Владимир Андреевич и
Дмитрий Донской, подбадривая себя выступить против татар, хотя никаких
ни внешних, ни психологических препятствий к этому выступлению,
казалось бы, уже нет (списки И-1, С, У).
Речи действующих лиц в "Задонщине" — это как бы
мысли вслух. Они носят, я бы сказал, условный характер. Это речи,
сказанные за автора, чтобы мотивировать поступки действующих лиц
или дать комментарий к событиям. Последнее особенно отчетливо выступает
в речи татар, которую они как бы коллективно, одновременно произносят,
когда бегут с поля битвы: "Туто погании разлучишас[я], раздно
побѣгоша неуготованными
дорогами в лукомор[ь]е, скрекчюще зубы своими, деручи лица своя,
а ркуче: "Уже намъ, брат[и]е, в земли своей не бывати, а дѣтѣй
своих не видати, а катунъ своих не трепати, а трепать намъ сырая
земля, а цѣловат[и] намъ
зелена мурова, а на Рус[ь] нам уже рат[ь]ю не хоживати, а выхода
намъ у рускых князей не прашивати"" (И-2, ср.
У, С).
Такой же характер имеют и речи фрягов, которыми автор ."Задонщины"
как бы комментирует бегство Мамая (списки У, С).
Еще одна особенность обращений в "Задонщине". Стиль и
характер устного слова в них утрачены. Обращения содержат элементы
книжности, невозможные в устных выступлениях. В этом их разительное
отличие от прямой речи в "Слове", сохраняющей в строгом
соответствии с литературной традицией XI—ХIII вв. либо характер
воинских речей, либо характер ораторских обращений (в "золотом
слове" Святослава), но никогда не включающей книжных элементов.
Хронологическая непоследовательность "Задонщины"
Разительная особенность "Задонщины" — хронологическая
непоследовательность. Эта непоследовательность не входит в художественный
замысел автора; в крупном плане события развиваются последовательно:
сперва сборы войска, затем первая половина сражения — неудачная,
после вторая — удачная, победа, затем бегство Мамая. Однако
в частных случаях эпизоды никак не следуют друг за другом: они выхвачены,
перемешаны, автор переходит от более поздних эпизодов боя к более
ранним, возвращается к тем же эпизодам, не выдерживая переходов
к следующему. В отдельных случаях изображение событий топчется на
месте. Логика повествования нарушается.
Перед нами как бы некоторые пробы, подгонки описания битвы на Дону
к стилистическим средствам "Слова" без соблюдения строгого
порядка. Так, например, в списке Ундольского князья Дмитрий Иванович
и Владимир Андреевич сперва (еще до своего соединения у Коломны)
"уставляют" "храбрыя воеводы в Руской земле",
затем поминают прадеда своего Владимира Киевского, затем говорится
о разных событиях в Русской земле, после — о новгородцах, собирающихся
у святой Софии, затем — о сборах русских князей, говорящих
почему-то о том, что татары стоят у Дуная и одновременно —
на реке Мечи "межу Чюровым и Михайловым". Затем следует
обращение Дмитрия Ивановича к Владимиру Андреевичу и литовским князьям.
После передаются слова Андрея Ольгердовича и довольно пространная
речь к нему Дмитрия Ивановича, в которой он предупреждает о готовящемся
сражении на речке Непрядве "межу Доном и Непром". Снова
говорится о том, что татары идут между Доном и Днепром и что серые
волки — татары "хотят на Мѣчи
поступити в Рускую землю". После лирических излияний следует
сообщение о том, что Дмитрий Иванович выступил в поход и одновременно
выступает Владимир Андреевич. Приводится новый диалог Дмитрия Ивановича
и Владимира Андреевича, в котором они описывают свои войска. Затем
говорится о битве, и при этом битва изображается как победа и сообщается
о ее всесветной славе. Упоминается, что бились войска с утра и до
полудня в субботу на Рождество богородицы. Вслед за этим описанием
победы неожиданно говорится о поражении и о потерях русских в первой
половине битвы. После этого сообщается об опустошении Рязанской
земли, которое произошло значительно раньше, о плаче княгинь, боярынь
и воеводских жен по избиенным, приводится и плач коломенских жен.
Затем новый неожиданный переход — мысль автора возвращается
к теме победы: говорится, что "того же дни в суботу" посекли
христиане поганые полки на поле Куликовом, приводятся ободряющие
речи Владимира Андреевича и Дмитрия Ивановича. Русские войска наступают,
татары бегут и "уже бо ста тур на оборонь" (последняя
фраза, варьирующаяся в разных списках, непонятна).
Отсутствие строгой хронологической последовательности и немотивированность
переходов от одной темы к другой обращают на себя внимание и в той
части "Задонщины", которая сохранилась в Кирилло-Белозерском
списке. Так, например, "чюдно стязи стоять у Дону великого"
раньше, чем войска выступают к Дону, раньше, чем Владимир Андреевич
повел свои сторожевые (передовые) полки к Дону, и раньше, чем вступил
Дмитрий Иванович "во свое златое стремя". Приглашение
жаворонку воспеть с л а в у Дмитрию Ивановичу и Владимиру Андреевичу
предшествует битве. Съехавшиеся к Дмитрию Ивановичу князья говорят
ему: "Уже поганыи татарове на поля на наши наступаютъ"
— раньше, чем автор сообщает о выступлении Мамая. Весть о битве
разносится по "рожнымь землям", "за Волгу к Желѣзным
вратомь, к Риму, до Черемис,ы до Чяховъ, до Ляховъ, до Устюга поганыхъ
татаръ за дышущеем моремь" раньше, чем кончилась сама битва,
— перед эпизодом, в котором Ослябля предсказывает гибель Пересвета
в будущем поединке. Сами диалоги и речи князей произносятся не в
конкретной обстановке, а как бы вне пространства и времени. Герои
обращаются друг к другу разделенные расстоянием. Ясно, что временная
последовательность и в Кирилло-Белозерском тексте соблюдается только
в самых общих чертах. В основном же и в данном варианте "Задонщины"
существует непоследовательность отдельных речей, образов, стилистических
формул, определяемая в значительной степени их последовательностью
в "Слове". 17
В самом деле, обратим внимание на следующее. Положение плача жен
и вдов в "Задонщине" как бы в середине битвы объясняется
несомненно тем, что плач русских жен в "Слове" занимает
срединное положение в произведении. "Слава руская" звенит
"по всей земли руской" (И-1, ср. К-Б, У,
С) еще до битвы, так же как и в "Слове", но в "Слове"
она относится к Святославу и помещена на месте — там, где говорится
о его прошлых победах. Отдельные речи Дмитрия Ивановича и Владимира
Андреевича также следуют тому порядку изложения, который существует
в их образце — в "Слове". Хронологическая путаница
с выступлением русских войск и татар (реально, как известно, татары
во главе с Мамаем выступили первыми и вызвали этим ответные сборы
войска и выступление войска навстречу татарам) объясняется тем,
что в "Слове" первыми выступили русские и только в ответ
на поход Игоря стали собираться половцы.
Несоответствия новому содержанию в "Задонщине"
Поскольку подражание внешне зависит от оригинала, относящегося
к другому времени и посвященного другому содержанию, в нем всегда
оказываются различные несоответствия новому содержанию и "остатки"
произведения, послужившего оригиналом. Появляются в нем, в том или
ином виде, различные несоответствия своему времени: языку, исторической
действительности, литературной традиции.
В "Задонщине" таких "остатков" "Слова
о полку Игореве" очень много. И немало таких "остатков",
которые в "Задонщине" совсем неуместны и могут быть поняты
только с помощью "Слова".
Прежде всего, в "Задонщине" (в списке У) сохранилось
название небольшой реки, на которой происходила битва Игоря Святославича
с половцами, — Каялы. Эта река упоминается только в "Слове"
и в летописном рассказе Ипатьевской летописи о том же походе Игоря.
И это понятно, но в "Задонщине" эта река упомянута без
особой связи с содержанием "Задонщины".
Ярославна, как известно, плакала по своему мужу Игорю, находившемуся
в плену, молила о его возвращении из плена, просила Днепр прилелеять
его к себе: "Възлелѣй,
господине, мою ладу къ мнѣ,
а быхъ не слала къ нему слезъ на море рано". В "Задонщине"
русские жены плачут в сходных выражениях по убитым, никто из их
мужей не попал в плен, и тем не менее до жен доходят "поломянные
вѣсти", или "полоняныа"
(И-1), т. е. вести о плене,18
а самые жены названы "поломяныя" или "полоняные жены",
т. е. жены пленников. Жена Микулы Васильевича, так же как Ярославна
просит Днепр, — просит Дон прилелеять к ней ее мужа, хотя муж
ее не пленен, как Игорь, а убит, и по Дону нет пути для возвращения
в Москву (И-1, И-2, У, С). Ясно, что
плач Ярославны первичен, а плач вдовы Микулы Васильевича —
это неудачная его переделка.
В "Слове" понятны все упоминания рек: Дона, за который,
согласно летописи, ходили на половцев русские войска Игоря, Днепра
— центральной водной артерии тогдашней Киевской земли, Дуная,
где еще находились в XII в. русские поселения. Но в "Задонщине"
настойчивые упоминания Днепра, расположенного в сотнях верст от
владений московского князя, и Дуная (в списке У) — совершенно
непонятны. Они могут быть объяснены только как следы "Слова".
В "Задонщине" московский князь может "веслы Непру
запрудити". Это могущество московского князя на Днепре —
непонятно. Но оно становится понятным, если вспомнить, что в "Слове"
Всеволод Суздальский может "Волгу веслы раскропити", где
он действительно одержал победу над волжскими болгарами в 1183 г.
В "Задонщине" татары Мамая идут не от Волги, где находится
центр Золотой орды и откуда двигался в действительности на Русь
Мамай, а от Черного моря, из пространства между Доном и Днепром:
"Уже бо всташа силнии вѣтри
с моря, прилелѣяша тучю
велику на усть Нѣпра,
на русскую землю. Ис тучи выступи кровавыя оболока, а из нихъ пашють
синие молньи. Быти стуку и грому велику межю Дономь и Нѣпромь,
идеть Хинела на русскую землю. Сѣрие
волци воють, то ти были не сѣрие
волци, придоша поганые татарове, хотять пройти воюючи, взяти всю
землю русскую" (К-Б, ср. И-1, У, С).
Это движение татар от берегов Черного моря, из района между устьями
Дона и Днепра, может быть понято только в связи со "Словом"
— именно оттуда, от обычного района своих зимних кочевий в
XII в., двигались навстречу войску Игоря .половцы (ср. в "Слове":
"чръныя тучя съ моря идутъ"; "Се вѣтри,
Стрибожи внуци, вѣютъ
съ моря стрѣлами"
и пр.).
Стоит упомянуть и о таком географическом несоответствии в "Задонщине".
В "Слове" в обращении Ярославны к Днепру говорится, что
он "пробил" каменные горы сквозь землю Половецкую, и Днепр
действительно пробивает каменные пороги в том как раз месте, где
степные народы чаще всего нападали на русские ладьи. Это было самое
опасное место земли Половецкой. В "Задонщине" в плаче
русских жен говорится несколько иначе: "Доне, Доне, быстрая
река, прирыла еси горы каменныя, течешь в землю по[ло]вецкую"
(И-1 и др.). 19 Но Дон на своем
пути не встречает порогов, а любой крутизны правый берег еще не
позволяет сказать, что река "прорыла" каменные горы. Каменные
были только пороги на Днепре.
В XII в., во времена Игоря Святославича, было естественно сказать
о его войске и сподручных князьях, что "хороброе гнездо"
Ольговичей не было "обидѣ
порождено ни соколу, ни кречету, ни тебѣ
чръный воронъ, поганый половчине". Игорь Святославич был первым
русским князем, попавшим в плен к степным врагам русских. Но то
же самое сказать после полуторастолетнего еще не кончившегося чужеземного
ига о всех русских князьях было невозможно. Между тем в. "Задонщине"
великий князь Дмитрий Иванович говорит: "Братия и князи руские,
гнѣздо есмя были великаго
князя Владимера Киевскаго, не въ обиде есми были по рождению ни
ястребу, ни крѣчату,
ни черному ворону, ни поганому сему Момаю" (У, ср. К-Б,
И-1, С).
В "Задонщине" постоянно говорится о "половцах",
о "половецком поле" и "половецкой земле". Конечно,
в конце XIV — начале ХV в. татары отождествлялись с половцами,
но тем не менее нельзя не признать, что называние половцев их собственным
именем — половцами — более естественно, чем настойчивое
именование половцами другого народа — татар.
Дважды повторенный в "Слове" лирический рефрен: "О
Русская земле! Уже за шеломянем] еси" (т. е. "О Русская
земля! Уже ты скрылась за холмом!") уместнее в "Слове",
чем разрывающая текст "Задонщины" не совсем ясная по смыслу
фраза: "...земля еси русская, какъ еси была доселева за царемь
за Соломоном, так буди и нынѣча
за княземь великим Дмитриемь Ивановичемь" (К-Б, ср.
И-1, У, С). Даже если принять объяснение А.
Мазона, что под Соломоном здесь следует разуметь библейского царя
Соломона, якобы бывшего владетеля Русской земли, по "Повести
о граде Иерусалиме", текст "Задонщины" и самая логика
появления этого места в "Задонщине" без "Слова о
полку Игореве" остаются непонятными. В самом деле, в "Слове"
говорится об углублении русского войска в степь, затем о грозных
приметах
несчастья; воспоминание о родине, скрывшейся за пограничным холмом,
как бы продолжает эту тревогу, пронизывающую весь рассказ "Слова"
в данном месте. Тревога нарастает, приближаются враги, и снова скорбный
рефрен раздается в "Слове". В "Задонщине" фраза
о Соломоне как бы предсказывает счастливый поворот в судьбе Русской
земли: Дмитрий Иванович заступит собой в будущем царя Соломона,
но ведь, по "Повести о граде Иерусалиме", имя Соломона
отброшено в далекое прошлое, да и Дмитрий находился на великом княжении
немало лет. Появление "Соломона" из "шеломяни"
может быть объяснено псковской шепелявостью (меной "ш"
на "с"), встречающейся в "Слове о полку Игореве"
и, очевидно, давшей из "шеломянем" "селомянем",
а отсюда и "Соломоном" "Задонщины". Однако никакой
шепелявостью нельзяобъяснить обратного: мены "с" на "ш",
"Соломона" на "шеломя".
Как известно, в "Слове" широко отражено древнерусское
двоеверие. Это двоеверие сказывается, в частности, в одушевлении
природы. С этой стороны понятна и поникающая от жалости трава, и
склоняющиеся в печали деревья ("Ничить трава жалощами, а древо
с тугою къ земли преклонилось"), но в "Задонщине"
все следы язычества и двоеверия вытравлены, и поэтому диссонансом
кажется заявление автора о том, что "трава кровю пролита, а
древеса к земли тугою преклонишас[я]" (И-1, ср. У,
С). Странным остатком двоеверия в "Задонщине" является
и "диво", то кличущее под саблями татарскими, то, напротив,
как бы находящееся на стороне татар. Это русское слово "диво"
— ясный остаток тюркского божества "див", представленного
в "Слове".
Можно указать также на такие места в "Задонщине", которые
кажутся вполне естественными, но которые никак не могли породить
соответствующего им близкого текста "Слова".
Так, например, в "Слове" действительно случавшееся солнечное
затмение перед выступлением Игоря в поход служит дурным предзнаменованием:
"Тогда въступи Игорь князь въ златъ стремень и поѣха
по чистому полю. Солнце ему тъмою путь заступаше...".
В "Задонщине" выступление князя Дмитрия Ивановича в поход
описано в сходных выражениях, указывающих на то, что оба описания
находятся в текстологической связи, но предзнаменование там счастливое,
ведь Куликовская битва была победой: "Тогда же князь великыи
Дмитреи Иванович ступи во свое златое стремя, всѣдъ
на свои борзыи конь, приимая копие в правую руку. Солнце ему на
встоцѣ семтября 8 в среду
на рожество пресвятыя богородица ясно свѣтить..."
(К-Б, ср. И-1, У, С). Какой же текст
первоначальнее: тот ли, в котором говорится о солнечном затмении,
или тот, в котором солнце ясно светит? Ясно, что тот, в котором
нельзя перевернуть самую действительность. Автор "Слова"
превзошел бы Исуса Навина, если бы остановил солнце (при этом задним
числом!) и устроил точно установленное для 1 мая 1185 г. астрономами20
затмение солнца, для того чтобы иметь возможность "перевернуть"
текст "Задонщины", обратив счастливое предзнаменование
Куликовской победы в грозную примету поражения Игоря.
|